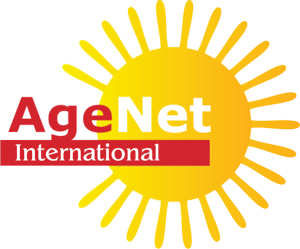Кыргызстан вступил в новую демографическую эпоху. Еще недавно страна считалась одной из самых молодых в регионе: почти половина населения была моложе 25 лет. Сегодня тенденция меняется — республика постепенно стареет. Этот процесс не столь очевиден, как в Европе или Японии, но его последствия будут не менее значимыми для социально-экономического развития страны.
По данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане проживает около 6,8 миллиона человек, из которых свыше 400 тысяч уже достигли возраста 65 лет и старше — примерно 6% населения. В 1990-е годы этот показатель не превышал 4%. Рост доли пожилых граждан продолжается, и, по прогнозам демографов, к 2050 году она приблизится к 12%. Это означает, что через четверть века каждый восьмой кыргызстанец будет пенсионного возраста.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни также неуклонно увеличивается: для мужчин — 65 лет, для женщин — 73 года. Для сравнения, в 2000 году мужчины жили в среднем 61 год, женщины — 69. Улучшение показателей отражает позитивные тенденции в здравоохранении, санитарных условиях и питании. Однако за статистикой скрывается более сложная реальность: рост продолжительности жизни сопровождается увеличением числа хронических заболеваний, требующих долгосрочного медицинского ухода и затрат.
Демографический переход, который переживает Кыргызстан, — это закономерный процесс, связанный с урбанизацией, образованием, изменением структуры занятости и падением рождаемости. Если в начале 2000-х средняя кыргызская женщина рожала 3,5–4 ребенка, то сегодня — около 2,8. Этот показатель всё еще выше, чем в большинстве стран СНГ, но тенденция очевидна: молодое поколение всё чаще выбирает карьеру и стабильность, откладывая рождение детей.
Старение населения уже влияет на рынок труда. Сегодня в Кыргызстане на одного пенсионера приходится 5 трудоспособных граждан, но к 2050 году соотношение может сократиться до 3 к 1. Это создаёт нагрузку на пенсионную систему, которая и без того испытывает дефицит средств. По данным Социального фонда, ежегодные трансферты из бюджета превышают 15 миллиардов сомов, чтобы покрыть выплаты более чем 750 тысяч пенсионерам.
Экономисты предупреждают: если не реформировать систему, к 2035 году дефицит может удвоиться. Один из вариантов — повышение пенсионного возраста, но эта мера вызывает сильное общественное сопротивление. Альтернативой может стать стимулирование занятости пожилых граждан, особенно в сферах образования, медицины, сельского хозяйства и ремесленного производства, где опыт и знание ценятся не меньше, чем физическая сила.
Старение населения — вызов и для системы здравоохранения. Доля хронических болезней, таких как диабет, гипертония и артрит, растёт ежегодно на 3–5%. При этом инфраструктура для долговременного ухода за пожилыми людьми всё ещё недостаточно развита. В стране насчитывается менее 20 домов-интернатов, рассчитанных в общей сложности на 1500 человек. Остальные миллионы пожилых кыргызстанцев живут в семьях, где забота о них ложится на плечи женщин среднего поколения, что усиливает гендерное неравенство на рынке труда.
Проблема также касается миграции. За последние десять лет за границей работает около миллиона кыргызстанцев, в основном молодых мужчин. Это не только снижает общий коэффициент рождаемости, но и оставляет пожилых родителей без поддержки. На юге страны, особенно в Баткенской и Ошской областях, целые села состоят из стариков и детей, тогда как трудоспособное поколение зарабатывает в России или Казахстане.
Тем не менее демографическое старение можно рассматривать и как ресурс. Люди старшего поколения являются хранителями языка, культурных традиций и ремесленных навыков. В условиях глобализации это нематериальное наследие становится важным элементом национальной идентичности. Создание программ “активного старения” — участие пожилых в местном самоуправлении, наставничестве, образовательных и волонтерских проектах — может превратить демографический вызов в социальное преимущество.
Опыт других стран показывает, что старение не обязательно ведет к кризису. В Южной Корее и Японии, где доля пожилых превышает 20%, развиваются целые отрасли “серебряной экономики”: медицинский туризм, производство товаров для пожилых, образовательные программы “второй молодости”. Кыргызстан может адаптировать эти модели под свои реалии. Например, в сельских районах возможно развитие кооперативов, где пожилые фермеры передают опыт молодым, а государство субсидирует их участие в агропроектах.
Немаловажен и вопрос социальной инфраструктуры. Большинство кыргызских городов не приспособлено для стареющего населения: тротуары без пандусов, узкие лестницы, отсутствие общественных пространств, где могли бы собираться пожилые люди. По данным Минтруда, лишь 8% зданий соответствуют стандартам безбарьерной среды. Для страны с растущей долей пожилых это серьёзный пробел, который требует градостроительных решений и новых стандартов строительства.
В последние годы в Кыргызстане появились первые инициативы, ориентированные на старшее поколение. Например, в Бишкеке реализуется проект “Город, дружественный к пожилым людям”, при поддержке ЮНФПА и мэрии. В его рамках создаются “клубы активного долголетия”, где пенсионеры занимаются физической активностью, осваивают цифровую грамотность и участвуют в культурных мероприятиях. В некоторых регионах запускаются мобильные медицинские бригады, выезжающие в отдалённые сёла для обследования людей старшего возраста.
Однако такие примеры пока единичны. Системного подхода к политике старения нет. Государственная стратегия демографического развития до 2035 года всё ещё находится в стадии обсуждения. Между тем, как предупреждают эксперты, именно сейчас нужно закладывать основы будущей социальной модели, потому что демография инерционна: последствия сегодняшних решений проявятся лишь через 15–20 лет.
Параллельно следует переосмыслить роль образования. В стране, где молодёжь составляет большинство, межпоколенческое взаимодействие должно стать стратегическим ресурсом. Совместные программы вузов и ассоциаций ветеранов, менторские инициативы, цифровые курсы для старшего поколения способны снизить социальную изоляцию и передать ценности устойчивого общества.
По данным Всемирного банка, вклад пожилых граждан в экономику Кыргызстана уже сегодня оценивается в 7–8% ВВП, включая сельское хозяйство, малый бизнес и неформальный сектор. Это не пассивная группа населения, а активные участники общественной жизни, которые продолжают работать, воспитывать внуков и поддерживать социальную стабильность.
В условиях глобальных трансформаций — климатических, технологических и культурных — именно баланс между поколениями станет индикатором зрелости государства. Старение — не сигнал тревоги, а знак того, что общество живет дольше, здоровее и устойчивее. Вопрос лишь в том, сможет ли Кыргызстан использовать этот процесс как возможность для обновления, а не повод для страха.
Как сказал Бактыбек Кайназаров, “пожилые люди — это не бремя, а богатство”. Это утверждение стоит воспринимать не как лозунг, а как основу новой социальной философии. Если страна сумеет превратить долголетие в ресурс развития, то старение населения станет не концом эпохи молодости, а началом зрелости государства.